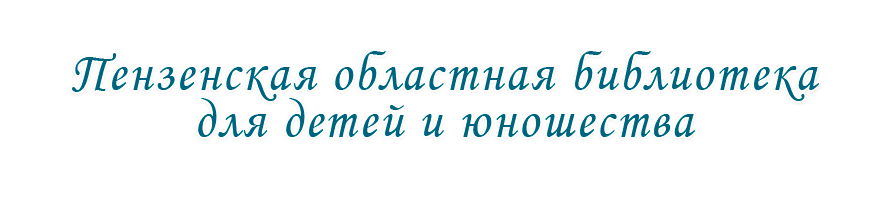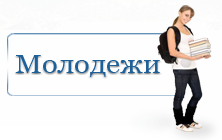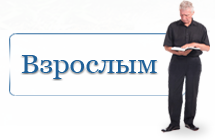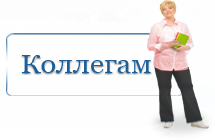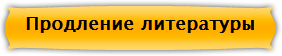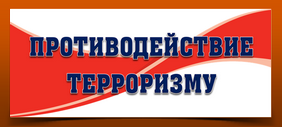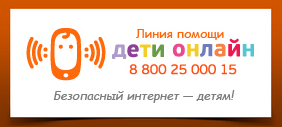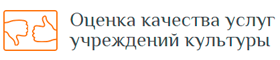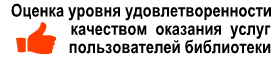Т.Ф. Лукина
ГБУК г.Москвы, ОКЦ ЦАО ЦБ №15 им. В.О. Ключевского
email: lukina_tf@okccao.ru
Е.А. Никуличева
ГБУК г.Москвы, ОКЦ ЦАО ЦБ №15 им. В.О. Ключевского
email: nikulicheva_ea@okccao.ru
С.Н. Ивашкин
ГБУК г.Москвы, ОКЦ ЦАО ЦБ №15 им. В.О. Ключевского, кандидат культурологии
email: ivashkin_sn@okccao.ru
ГБУК г.Москвы, ОКЦ ЦАО ЦБ №15 им. В.О. Ключевского
email: lukina_tf@okccao.ru
Е.А. Никуличева
ГБУК г.Москвы, ОКЦ ЦАО ЦБ №15 им. В.О. Ключевского
email: nikulicheva_ea@okccao.ru
С.Н. Ивашкин
ГБУК г.Москвы, ОКЦ ЦАО ЦБ №15 им. В.О. Ключевского, кандидат культурологии
email: ivashkin_sn@okccao.ru
Сайт ГБУК города Москва «Объедение культурных центров Центрального административного округа» так представляет краеведческую работу Центральной библиотеки им. В.О. Ключевского: “На протяжении многих лет одним из главных направлений деятельности библиотеки является краеведческая работа, результатом которой стал историко-краеведческий проект «Столица». Проект знакомит с культурной жизнью Москвы до, во время и после войны, с московскими градоначальниками разных эпох, с реалиями современного города. С помощью многофункционального пространства, где собраны специальные материалы и печатные издания, артефакты, документы и фотографии участники проекта могут изучать свою историю, историю своей семьи, города, в котором мы все живем, известных личностей и знаменитых династий, архитектурных памятников и улиц в контексте истории государства и общества». Библиотека ведет большую работу по изучению истории и достопримечательностей района Таганки, проводит познавательные пешеходные прогулки.” [1]
Остановимся на одном из проектов: Москва глазами молодого В.О. Ключевского.
Письма виднейшего национального историка мирового масштаба В.О. Ключевского из Москвы в Пензу дяде и тете, однокурсникам совершенно своеобразно описывает Москву 60-х гг. девятнадцатого века. Этот материал используется в краеведческой работе в ЦБ В.О. Ключевского. Рассмотрим несколько писем. Письмо дяде и тете. И. В. и Е. Ф. Европейцевым. Москва, 23 июля 1861 г.
«Путь свой я кончил и, благодаря Бога, благополучно. 22-го в 8 с половиной часов вечера машина /здесь паровоз/ привезла нас к вокзалу Московско-Владимирской железной дороги - на самый край Москвы. Народ зашумел, засуетился, как обыкновенно бывает при высадке пассажиров; мы получили свой багаж и принялись отыскивать извозчика. Странное чувство охватило меня, когда я вышел из вокзала и стал садиться на извозчика. Москвы за темнотой и пылью нельзя было рассмотреть нисколько; чуялось что-то громадное - и только. В первый раз в жизни почувствовал я себя одиноким, когда мы отъехали от станции жел[езной] дороги: ведь ни назади, ни впереди не было ничего не только родного, знакомого даже! Мы ночевали на подворье - в гостинице второй руки.
[…]Я сказал, что я сижу один в своей квартире; надо еще добавить, что в нижнем этаже огромного каменного трехэтажного дома вблизи Тверской - одной из лучших московских улиц. Квартира наша - да что и описывать ее - превосходная комната, с мебелью, в два окна, перегорожена ширмами. Перед окнами длинный забор и сад купеческого клуба; часто буду слушать здесь музыку. Так как дом, в котором мы живем, не в самой Тверской, а в переулке, то здесь меньше шума, нет неугомонной скакатни экипажей - словом, прекрасно! Сегодня подали нам обед; мы, замечу кстати, положили обедать по-столичному в 4 часа с половиной. Каков же обед? Суп перловый, котлеты с макаронами и картофелем, жареный рябчик и, наконец, пирожное - что-то мудреное, чего я ни назвать, ни разобрать не умею. Очев, в качестве нашего наблюдателя и эконома (он живет недалеко от нас), очень хвалил наш обед; он нарочно приходил только для того, чтобы посмотреть наш стол и отведать. В случае какой-нибудь нужды мы звоним, и к нашим услугам является служитель. Дом, в котором мы живем, кажется, весь отдается внаем и разделен на такие же комнаты, какую занимаем мы; следовательно], таких постояльцев, как мы, в кем много. Да, об ужине: ужина, разумеется, нет; кажется, его и не нужно после такого обеда, как сегодня, и после чаю в 8-9 часов вечера; и дорогой я уж испытал, что не ужинать - прекрасная вещь для здоровья, только привыкнуть немного. Что бы вы подумали о цене, которой стоит эта квартира и этот обед? 13 рубл[ей] сер[ебром] с человека. Что? Как на ваш взгляд? Дорого ужасно, не правда ли? И я совершенно согласен с вами, что ужасно дорого по мне, несмотря на все удобства, которыми нас окружили. Но послушайте, что дальше. Когда Маршев-сын сообщил, что квартира нанята хорошая и дешевая, всего в 13 р[ублей] с человека, я сказал, что очень по мне дорога, но меня начали уверять, что это очень дешевая квартира со столом один раз в день. Я, разумеется, не разуверился: карман очень ясно доказывал, что дорого,- и дело с концом. Но я ничего не сказал. У меня было в уме при удобном случае высказать тотчас Маршеву-сыну и Очеву, что меня напрасно ждали с такой квартирой, что можно было наперед видеть, что платить столько я решительно не в состоянии, но до самого обеда я не нашел случая высказать все это. Это я, впрочем, держу при себе до времени и вот почему: после обеда является хозяин. Я сказал, что Очев приходил пробовать наш обед. Он сейчас же сказал хозяину, нужны ли ему деньги; дело, видите ли, в том, что по-столичному деньги за месяц нужно отдать вперед; хозяин отвечал, разумеется, что деньги всегда нужны. Я думал, что придется мне тут объясниться, но Очев вынул и отдал 30 с чем-то рублей сер[ебром], и хозяин тотчас дал расписку, что получены деньги по 23 августа; следовательно], за троих: меня, Маршева и Покровского. Вот судите по этому о моем будущем положении, да, пожалуй, и теперешнем. Что будет впереди, я пока еще не знаю. Мне не хочется обманываться излишними надеждами: я ехал в Москву, крепко надеясь на Бога, а потом на вас и на себя, не рассчитывая слишком много на чужой карман, что бы там со мной ни случилось.[…] Своему другу П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ [от 26 июля 1861 г.] в своем письме тоже представлял свои впечатления о Москве:
«Бесподобнейший Пашенька! Я уверен, что тебе всего лучше хотелось бы услышать от меня что-нибудь вроде описаньица всех достопримечательностей дороги, как-то новых городов, муромского леса, железной дороги и, наконец, Москвы с ее бесподобными калачами и сайками, с ее золотыми главами на церквах, с ее Кремлем и пр., и пр., и пр. Хорошо, я тебя удовольствую во всех сих пунктах. Во-первых, новые для нас с тобой прежде и для тебя доднесь города, попадавшиеся мне на дороге, или не стоят того, чтобы упоминать о них в географиях даже, не то чтобы в письме, или слишком хороши, чтобы писать о них кое-как.[…] А ночью, когда приедет поезд из Москвы (по жел[езной] дороге), по каменной мостовой, поднимается такая скакатня, что я уснуть не мог, вышел из номера и стал гулять по освещенной и оживленной улице. Шум, говор, стук, прилив и отлив толпы поразили меня; у меня дух захватило. Да, подумал я, здесь не Пензой пахнет. Помнишь ли, как ты чувствовал себя, когда в первый раз услышал при блестящей декорации музыку в театре? Как заискрились глаза и затанцевало сердце при виде ослепительных хромотропов? То же самое впечатление произвело на меня и оживленное движение улицы. Не обломовщина здесь: на каждом шагу боишься толчка и слышишь суетливый говор». Далее восторженный и наблюдательный молодой В.О.Ключевский сравнивает Москву и Пензу. «Москва, университет, и Буслаев, и Сергиевский, и Ешевский - на кафедре. "Чтобы войти в интересы нравственной жизни народа, надобно изучить его словесность",- слышится с этой кафедры. Как ты думаешь, лучше ли это прежних сцен? Но постой: аудитория начинает волноваться; несколько голов кланяются, вставая; на кафедру всходит невзрачный, с алыми полосами вокруг глаз человек, торопливо собирает волосы на правом виске за ухо; кафедру окружает толпа; один бесцеремонно кладет бумагу, карандаш и локоть на самую кафедру подле тетрадки профессора; тихо; раздается неловкий, неясный, запинающийся голос: "М[илостивые] г[оспода]!" - и полилась живая, горячая речь; все напряженно слушают, уставившись в кафедру глазами; а оттуда все льется и льется речь: "Вся жизнь древнего мира разобрана во всех частях, во всех подробностях; все могилы раскопаны; оттуда вынуто все и нужное, и ненужное, остался один прах..." Чем дальше, тем шире раскрывается душа; ничего нового, все общее и более или менее читанное или слышанное; но любо становится на душе, и чувствуешь, как эти читанные и слышанные мысли с новой силой, с новым обаянием теснятся не в голову одну, а во всю душу, во все существо. Это Ешевский говорит о древнем мире! Как ты думаешь? Похоже ли это на мертвое чтение какой-нибудь допотопной статейки из "Христианского] чтения" 1820-х годов? Похоже ли это на горячее даже словоизвержение с высоты догматической кафедры - понимаешь кого?.. Но довольно: оборот подошел; досадно, как крещенский сочельник после святок! К делу, к делу... "Non ad rem" {"Не к делу" (лат.).},- слышится... Но дальше, прочь воспоминания!
С чего ж начать? Да, с безделья, с экзамена. Какая проза! Боже мой! Неужели ты не чувствуешь, какая скука после Ешевского и др[угих] писать об экзамене? Нечего делать! Надобно сдержать слово, подать хлеб вместо камня, а может быть, и наоборот... Но нет, сил не хватает; опять звучит в ушах: "Отчизне кубок сей, друзья!" Опять перо просится в Пензу (прости за это избитое выраженье). Что Флоринский? Что Разумов? Что... Фу! Сколько имен просится на бумагу! Словом, что все вы? Пенза, семинария, ректор, инспектор, Констехтер, Степан Васильевич! Какие знакомые имена, и сколько противоположных ощущений, благодарных и враждебных воспоминаний подымают они в душе! По-прежнему ли ректор лает на мир божий; по-прежнему ли К[онстантин] Ф[едорович] просит сочинений и трактует о Магомете? По-прежнему ли Ст[епан] Вас[ильевич] своим мягким, женственным, полным симпатии, хотя немножко гнусящим голоском поведает своим неблагодарным, да, неблагодарным, слушателям тайны откровения? Несравненный человек, который больше и жарче всех желал нам добра, меньше всех делал зла или, лучше сказать, вовсе его не делал и которого, однако ж, меньше всех ценили и понимали и, вероятно, ценят и понимают до сих пор! Тихая, безобидная душа! Возмутительно, безнравственно в высшей степени бросить грязью в такого человека. Привет ему от всей души!»
В другом письме П. П. Гвоздеву от 11 октября 1861 г. в Пензу будущий историк рассказал о студенческих волнениях в Московском университете и объяснил свою позицию отрицания требований студентов к императору.
«Мне тяжело говорить о той катастрофе, которую теперь переживает наш университет. Ты, может, уже знаешь что-нибудь и освободишь меня от обязанности подробно описывать тебе все дело, к тому же это и не совсем удобно в письме, посылаемом по казенной почте. Скажу тебе только вот что: по случаю закрытия Петербургского] университета за волнения на юрид[ическом] факультете у нас читали прокламацию, рьяную, раздражительную, в тоне "Aux armes, citoyens!" {"К оружию, граждане!" (фр.).}. Она прислана была из Пет[ербур]га. Читавшему отвечали шумными рукоплесканиями. Входит инспектор: в это время чтение еще продолжалось; инспектор подошел к читавшему (он был поляк и читал с высоты кафедры, подняв вверх правую руку), взял его за руку и просил сойти. Но оратор продолжал читать, не удостоивая инспектора вниманием. Наконец он кончил и сошел при шуме рукоплесканий. Инспектор стал говорить о нарушении правила (чтобы не было ничего похожего на сходки, тем более возмутительные); ему отвечали оглушительным свистом, так что он не мог сказать слова. Дело сделано; аудитория опустела; все ушли в сад; начали составлять адрес к государю, чтобы отменить обязательность в платеже 50 р[ублей] и других стеснительных правил. Адрес был в таком тоне: "желаем", "желаем". Посуди, кто же согласится удовлетворить такому бесцеремонному желанию, кто удовлетворит ему из наших величественных регистраторов (понимаешь!). Стали подписываться под адрес[ом]. Между тем явился протест от многих студентов, что этот шум и свист для них чуждое дело и они не разделяли и не хотят разделять его. Значит, беспорядок - дело немногих мальчиков. На третий день по решению совета унив[ерсите]та 1-й и 2-й курсы юрид[ического] фа[культета] были объявлены закрытыми на год. Вот как! Но дело разгоралось. Раз из саду целая толпа студентов двинулась к дверям унив[ерсите]та и с шумом и криками начала требовать инспектора, грозя иначе вломиться силою и отыскать его.
Сам можешь обсудить, какого это рода дело! Я отвернулся от него, как и многие, возмущенные его обстановкой. Явились партии в саду, явились демагоги, кричавшие о том, что их имена будут написаны золотыми буквами у потомства. Говорят, на совете С. М. Соловьев и Б. Чичерин сильно восставали против этих беспорядков и величали крикунов школьниками. Некоторые студенты так горячо увлеклись, что кричали: "Пусть закроют наш университет!" Как легко сказать это! А думал ли кто, что все эти крики не стоили одного слова лекции Буслаева или кого другого. Я приведу тебе слова речи Буслаева, которые остались у меня в памяти, речи, которой он объяснился с нами по поводу всех этих происшествий, и предоставляю тебе самому обсудить все это дело.
"М[илостивые] г[оспода]! Мне было бы тяжело продолжать мои лекции, не объяснившись с вами по поводу совершившихся событий, не сложив ту тяжесть, которая теперь лежит у меня на сердце. Слышатся возгласы о каких-то преобразованиях университета с его профессорами, которых обвиняют в том, что они замкнулись в своих науках и не хотят знать того, что делается вокруг них (это о студентах речь). Что сказать на это? Предваряю вас, г[оспода], что я решился высказаться откровенно. Всякое молчание ведет к недоразумению, а всякое недоразумение питает ложь. Итак, я откровенно объяснюсь с вами. Я сам вырос и физически, и нравственно в стенах этого университета, и, сколько припомню, при мне не было между студентами и профессорами другой теснейшей связи, кроме научной, и еще доселе не знаю, может ли существовать какая-нибудь другая связь. Теперь, г[оспода], эта связь разорвана. Слышатся возгласы: быть или не быть университету! В этих возгласах слышатся и другие: быть или не быть профессорам! Что это? Что значат эти хлопотливые заботы о житейских, практических делах (намек на хлопоты об отменении платы и т. п.)? Все эти крики о житейских вещах и преобразованиях, г[оспода], еще хуже самих свистков, которыми студенты награждают непризнанного оратора (инспектора). Они разрушают самовольно связь с наукой, отодвигают ее на второй план, разрушают прямые, самые дорогие отношения между представителями ее и слушателями. Быть или не быть профессорам! Это значит: быть или не быть университетскому образованию! Я никого не хочу ни обвинять, ни оправдывать, но позволяю себе видеть во всем этом не что иное, как глубокое оскорбление преподавателям, которые по мере сил своих посвятили себя на дело вашего образования, а в лице их и глубокое оскорбление мирной науке!" Он говорил горячо, изменялся в лице: то бледнел, то оживлялся как-то особенно. К сожалению, люди, о которых он говорил, т. е. ажитаторы волнения, не слышали его: они были в саду, на совещаниях. Обсуди это дело, и ты согласишься со мной, что это не более как вопрос дня - question du jour,- отличающийся сильным мальчишеством. Испортили сначала дело, а потом принялись за адрес. Вот почему я отвернулся от него.»
В письме И. В. Европейеву от 18 октября 1861 г. Василий Осипович более подробно рассказал о волнениях среди студентов, в которых он должен был закалить свой характер: «... Я полагаю, что Вы уже имеете некоторые сведения о наших делах. По всей вероятности, Вы слышали, что был закрыт Петербургский университет за беспорядки, произведенные студентами. По случаю этого закрытия и у нас произошли шумные движения - освистали инспектора и подобное. Но это было делом немногих. Большинство студентов объявило инспектору, что они против этих неприличных действий. Сами согласитесь, что не студентам свистать и буянить в аудитории; это и на улице неприятно и не совсем законно. Однако же так как эти действия произошли прежде всего в юридической аудитории, то совет университета решил, чтобы закрыть первые два курса юридического факультета на год. Теперь эти курсы опять открыты для тех, кто объявил себя против шумных действий. Это было в конце сентября, но дело здесь в том, что по милости всех этих событий мы были поставлены в самое неприятное, беспокойное положение. Было опасно писать письма, потому что носились слухи, будто на почте их вскрывают...
Из-за чего же, спросите Вы, произошли эти беспорядки?
Студенты хотели выручить товарищей, которые набушевали в аудитории, и решились хлопотать об отменении постановлений, стеснительных для студентов, особенно бедных, именно: об отменении поголовной обязанности платы за право слушания лекций; о позволении объясняться с начальством через депутатов, что по правилам не позволено. Все это было прекрасно. Предположено было подать министру или самому государю адрес обо всем этом. Но адрес сопровождался таким шумом, что он делался дерзким поступком, хотя в сущности он не должен быть таким. Напр[имер], однажды толпа студентов с шумом подступила из саду, где было сборище, к дверям университета и требовала инспектора, грозя в противном случае выломать двери, и на другой день в самом деле некоторые головы выломали решетку в коридоре, через которую проходят студенты, предъявляя поставленному здесь швейцару свои билеты. Ну, на что это похоже? Вследствие этого очень многие, в том числе и я, не хотели подписаться под адресом, во-первых, потому, что он производился уже незаконным образом, а кто хлопочет об изменении чего-либо, то для успеха должен еще подчиниться существующим постановлениям, не правда ли? - а во-вторых, и потому, что на этот адрес и не обратили бы внимания или еще и хуже сделали бы как с поступком не совсем почтительным. Вы понимаете, кто бы это сделал? Напр[имер], в адресе не говорилось: просим о том-то - нет, а прямо: желаем, требуем - и дело с концом. Наперед можно было видеть, что люди, к которым обращен был этот адрес, не привыкшие к такому тону бесцеремонному и еще недавно закрывшие университет Петербургский, не очень ласково ответят и московским студентам. Мало-помалу подписка под адресам] уменьшалась; все было стало утихать. Жаль было только, что два курса юридические закрыты. Но вдруг в начале октября в ночь схвачены были полицией некоторые студенты без всякого объяснения, за что и почему. Это взволновало опять студенческий люд. Стали требовать у попечителя объяснения и при этом с шумом ввалились в комнату, где он был. Попечитель отказался говорить с такой бесцеремонной толпой. Призван был обер-полицмейстер, но ему заметили студенты, что ему здесь делать нечего, и с шумным свистом проводили с университетского двора. На другой день то же, но кончилось трагедией. Студенты, получив отказ у попечителя, отправились толпой к дому генерал-губернатора, чтобы у него попросить объяснения, почему арестованы некоторые их товарищи. Отправились, разумеется, не все. Их сопровождала огромная толпа зрителей. Но здесь явилась полиция и проводила студентов до дома губернатора. При доме произошли беспорядки, и подан был жандармам знак хватать. Тут началось странное дело. Пешие и конные жандармы рассыпались по улице и всякого, кто имел какие-нибудь признаки студента (мундир, очки и подоб[ное]), бесцеремонно хватали за шиворот, стаскивали с дрожек, кто ехал, и тащили в часть. К Тверской нельзя было пройти. Некоторых студентов били палашами или чем попало. Сюда присоединились еще лавочники и прочая челядь, которой полиция успела объявить, что студенты хотят вместе с помещиками отнять у крестьян волю и что это все поляки бунтуют (какая нелепая несообразность!). Чернь также ловила студентов и с криками выдавала полиции. Многие посторонние были схвачены толпой по недоразумению, что они студенты. Иной студент шел, не зная ничего, по улице, и его беспардонно тащили в часть. Даже помощник инспектора просидел там несколько часов, потому что его приняли за студента. Поистине дело было плачевное! Хватали без всякого разбора и церемонности. Некоторые студенты вырывались и растрепанные, оборванные прибежали в университет поведать товарищам о случившемся. Некоторое время университет был в осадном положении, около него собралось множество народа, колясок, дрожек, будто на праздник, и в довершение декорации рыскали пред воротами жандармы, не пропуская никого ни в университет, ни из университета. Это многих, и в том числе меня, оставшихся в университете, спасло от жандармского палаша или копыта его лошади. Дело было слишком серьезное, чтобы не принять его к сердцу. Оказалось, что больше 300 человек сидели в части. Беспардонность полиции в обращении с студентами соединила всех студентов в той мысли, что полиции не должно пропустить это безнаказанно. Собрался совет профессоров, и решили вести дело судебным порядком, назначив со стороны университета депутата. Между тем перед частью до самой ночи стояла огромная толпа народу, и длинный ряд конных жандармов выстроен был в линейку на площади. Оставшиеся студенты сами хотели идти в часть и требовать, чтобы и их посадили вместе с товарищами, но их не взяли и некоторых схваченных выпустили и доселе продолжают выпускать. Лавочники и подобная челядь обнаружила себя против студентов, называя их буянами, говоря, что здесь действовали больше поляки, что они шли разбить окна у губернатора: ходили самые нелепые слухи. В этом говоре толпы была своя доля правды: студенты действительно побуянили неприлично, разумеется, немного, но дело в том, что хватали всех без разбора и хватали бесцеремонно, с чисто солдатскими приемами. Но если чернь заявила себя против студентов, то высшие сословия иначе отнеслись к ним. Некоторые, правда, из высшего сословия, говорят, обвиняли во всем студентов, но вообще все недовольны были полицией. Говорят, дворяне хотят протестовать против ее поступков. Упомянем об одном, пожалуй, и трогательном, но отчасти и забавном выражении сочувствия студентам: дамы, бывшие постоянными зрительницами движений университета, после дневных арестов пришли к части (говорю, некоторые, иные очень щегольски одетые) и принесли узникам конфект целые узлы, объявив при этом, что они не будут танцевать с жандармскими офицерами, оскорблявшими их любимцев-студентов... Как хотите смотрите на это; я не отказываюсь видеть в этом и хорошее, но только смешно что-то немножко; видно, никакая комедия не обходится без трагедии и никакая трагедия без комедии; последнее-то и случилось с нами. Впрочем, от большей части дам московских и нельзя требовать большего: будет с них и этого. Во всяком случае спасибо им! С какой стороны ни смотреть на эту бойню, она выходит очень нехорошим делом со стороны полиции. Теперь идет об этом дело, и еще не могу сказать вам, чем оно кончится. Между тем все взволнованы, до лекций ли здесь! Решили прекратить ходить на лекции до окончания дела. Закрытые курсы открыты для тех, кто объявил себя против нехороших сцен, произведенных студентами в начале всего этого дела. Заявить себя против этого всякий должен, говорю должен, потому что эти сцены не идут к студентам, делают их уличными буянами. В этом большинство нас сходится; но бойня, учиненная полицией, заставляет забыть это и сочувствовать биенным страдальцам. Открытие курсов пришлось не вовремя, и порешили не ходить на лекции, пока не кончится все дело и не освободят всех арестованных. Вот и посудите, как дела делаются на свете. Что за время переживаем мы! Посудите сами: в Петербурге прекращены лекции, несмотря на то что университет открыт (с изданием новых, еще более невыгодных правил для студентов); Киевский закрыт; говорят, то же и с Казанским университетом; Московский закрыли сами студенты (на неделю, не больше). Сколько остается после этого? Харьковский - и только, но еще не известно хорошо, что там делается. Как назвать это время? Безуниверситетским, междуцарствием полицейским. Что-то грустно, как хотите.
Впрочем, не беспокойтесь. Дело уладится; найдутся и там, наверху, люди, желающие добра университетам, и если не отменят правил, стеснительных для студентов, то и хуже ничего не будет: можно надеяться на это. Для успокоения нужно Вам сказать, что университет Московский не закроют никогда: это не Петербургский и никакой другой. Это говорил один из профессоров. Временное прекращение лекций самими студентами ничего не значит и не есть официальное закрытие со стороны начальства. Оно необходимо для скорейшего окончания дела. Будьте спокойны: нас защитят и все пойдет своим порядком. Самое дурное в нашем деле то, что его связывают с польскими волнениями, тогда как это не имеет ничего общего с ними. Это домашнее университетское дело, а не политическая демонстрация». [2]
Представляя первые московские сюжеты из жизни В.О.Ключевского краеведческому сообществу, молодежи, библиотечные работники открывают как новые неизвестные факты обыденной жизни Москвы, так и о общезначимых студенческих волнениях в контексте отношения к студентам московских обывателей от ненависти лавочников до симпатии щегольских дам.
Остановимся на одном из проектов: Москва глазами молодого В.О. Ключевского.
Письма виднейшего национального историка мирового масштаба В.О. Ключевского из Москвы в Пензу дяде и тете, однокурсникам совершенно своеобразно описывает Москву 60-х гг. девятнадцатого века. Этот материал используется в краеведческой работе в ЦБ В.О. Ключевского. Рассмотрим несколько писем. Письмо дяде и тете. И. В. и Е. Ф. Европейцевым. Москва, 23 июля 1861 г.
«Путь свой я кончил и, благодаря Бога, благополучно. 22-го в 8 с половиной часов вечера машина /здесь паровоз/ привезла нас к вокзалу Московско-Владимирской железной дороги - на самый край Москвы. Народ зашумел, засуетился, как обыкновенно бывает при высадке пассажиров; мы получили свой багаж и принялись отыскивать извозчика. Странное чувство охватило меня, когда я вышел из вокзала и стал садиться на извозчика. Москвы за темнотой и пылью нельзя было рассмотреть нисколько; чуялось что-то громадное - и только. В первый раз в жизни почувствовал я себя одиноким, когда мы отъехали от станции жел[езной] дороги: ведь ни назади, ни впереди не было ничего не только родного, знакомого даже! Мы ночевали на подворье - в гостинице второй руки.
[…]Я сказал, что я сижу один в своей квартире; надо еще добавить, что в нижнем этаже огромного каменного трехэтажного дома вблизи Тверской - одной из лучших московских улиц. Квартира наша - да что и описывать ее - превосходная комната, с мебелью, в два окна, перегорожена ширмами. Перед окнами длинный забор и сад купеческого клуба; часто буду слушать здесь музыку. Так как дом, в котором мы живем, не в самой Тверской, а в переулке, то здесь меньше шума, нет неугомонной скакатни экипажей - словом, прекрасно! Сегодня подали нам обед; мы, замечу кстати, положили обедать по-столичному в 4 часа с половиной. Каков же обед? Суп перловый, котлеты с макаронами и картофелем, жареный рябчик и, наконец, пирожное - что-то мудреное, чего я ни назвать, ни разобрать не умею. Очев, в качестве нашего наблюдателя и эконома (он живет недалеко от нас), очень хвалил наш обед; он нарочно приходил только для того, чтобы посмотреть наш стол и отведать. В случае какой-нибудь нужды мы звоним, и к нашим услугам является служитель. Дом, в котором мы живем, кажется, весь отдается внаем и разделен на такие же комнаты, какую занимаем мы; следовательно], таких постояльцев, как мы, в кем много. Да, об ужине: ужина, разумеется, нет; кажется, его и не нужно после такого обеда, как сегодня, и после чаю в 8-9 часов вечера; и дорогой я уж испытал, что не ужинать - прекрасная вещь для здоровья, только привыкнуть немного. Что бы вы подумали о цене, которой стоит эта квартира и этот обед? 13 рубл[ей] сер[ебром] с человека. Что? Как на ваш взгляд? Дорого ужасно, не правда ли? И я совершенно согласен с вами, что ужасно дорого по мне, несмотря на все удобства, которыми нас окружили. Но послушайте, что дальше. Когда Маршев-сын сообщил, что квартира нанята хорошая и дешевая, всего в 13 р[ублей] с человека, я сказал, что очень по мне дорога, но меня начали уверять, что это очень дешевая квартира со столом один раз в день. Я, разумеется, не разуверился: карман очень ясно доказывал, что дорого,- и дело с концом. Но я ничего не сказал. У меня было в уме при удобном случае высказать тотчас Маршеву-сыну и Очеву, что меня напрасно ждали с такой квартирой, что можно было наперед видеть, что платить столько я решительно не в состоянии, но до самого обеда я не нашел случая высказать все это. Это я, впрочем, держу при себе до времени и вот почему: после обеда является хозяин. Я сказал, что Очев приходил пробовать наш обед. Он сейчас же сказал хозяину, нужны ли ему деньги; дело, видите ли, в том, что по-столичному деньги за месяц нужно отдать вперед; хозяин отвечал, разумеется, что деньги всегда нужны. Я думал, что придется мне тут объясниться, но Очев вынул и отдал 30 с чем-то рублей сер[ебром], и хозяин тотчас дал расписку, что получены деньги по 23 августа; следовательно], за троих: меня, Маршева и Покровского. Вот судите по этому о моем будущем положении, да, пожалуй, и теперешнем. Что будет впереди, я пока еще не знаю. Мне не хочется обманываться излишними надеждами: я ехал в Москву, крепко надеясь на Бога, а потом на вас и на себя, не рассчитывая слишком много на чужой карман, что бы там со мной ни случилось.[…] Своему другу П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ [от 26 июля 1861 г.] в своем письме тоже представлял свои впечатления о Москве:
«Бесподобнейший Пашенька! Я уверен, что тебе всего лучше хотелось бы услышать от меня что-нибудь вроде описаньица всех достопримечательностей дороги, как-то новых городов, муромского леса, железной дороги и, наконец, Москвы с ее бесподобными калачами и сайками, с ее золотыми главами на церквах, с ее Кремлем и пр., и пр., и пр. Хорошо, я тебя удовольствую во всех сих пунктах. Во-первых, новые для нас с тобой прежде и для тебя доднесь города, попадавшиеся мне на дороге, или не стоят того, чтобы упоминать о них в географиях даже, не то чтобы в письме, или слишком хороши, чтобы писать о них кое-как.[…] А ночью, когда приедет поезд из Москвы (по жел[езной] дороге), по каменной мостовой, поднимается такая скакатня, что я уснуть не мог, вышел из номера и стал гулять по освещенной и оживленной улице. Шум, говор, стук, прилив и отлив толпы поразили меня; у меня дух захватило. Да, подумал я, здесь не Пензой пахнет. Помнишь ли, как ты чувствовал себя, когда в первый раз услышал при блестящей декорации музыку в театре? Как заискрились глаза и затанцевало сердце при виде ослепительных хромотропов? То же самое впечатление произвело на меня и оживленное движение улицы. Не обломовщина здесь: на каждом шагу боишься толчка и слышишь суетливый говор». Далее восторженный и наблюдательный молодой В.О.Ключевский сравнивает Москву и Пензу. «Москва, университет, и Буслаев, и Сергиевский, и Ешевский - на кафедре. "Чтобы войти в интересы нравственной жизни народа, надобно изучить его словесность",- слышится с этой кафедры. Как ты думаешь, лучше ли это прежних сцен? Но постой: аудитория начинает волноваться; несколько голов кланяются, вставая; на кафедру всходит невзрачный, с алыми полосами вокруг глаз человек, торопливо собирает волосы на правом виске за ухо; кафедру окружает толпа; один бесцеремонно кладет бумагу, карандаш и локоть на самую кафедру подле тетрадки профессора; тихо; раздается неловкий, неясный, запинающийся голос: "М[илостивые] г[оспода]!" - и полилась живая, горячая речь; все напряженно слушают, уставившись в кафедру глазами; а оттуда все льется и льется речь: "Вся жизнь древнего мира разобрана во всех частях, во всех подробностях; все могилы раскопаны; оттуда вынуто все и нужное, и ненужное, остался один прах..." Чем дальше, тем шире раскрывается душа; ничего нового, все общее и более или менее читанное или слышанное; но любо становится на душе, и чувствуешь, как эти читанные и слышанные мысли с новой силой, с новым обаянием теснятся не в голову одну, а во всю душу, во все существо. Это Ешевский говорит о древнем мире! Как ты думаешь? Похоже ли это на мертвое чтение какой-нибудь допотопной статейки из "Христианского] чтения" 1820-х годов? Похоже ли это на горячее даже словоизвержение с высоты догматической кафедры - понимаешь кого?.. Но довольно: оборот подошел; досадно, как крещенский сочельник после святок! К делу, к делу... "Non ad rem" {"Не к делу" (лат.).},- слышится... Но дальше, прочь воспоминания!
С чего ж начать? Да, с безделья, с экзамена. Какая проза! Боже мой! Неужели ты не чувствуешь, какая скука после Ешевского и др[угих] писать об экзамене? Нечего делать! Надобно сдержать слово, подать хлеб вместо камня, а может быть, и наоборот... Но нет, сил не хватает; опять звучит в ушах: "Отчизне кубок сей, друзья!" Опять перо просится в Пензу (прости за это избитое выраженье). Что Флоринский? Что Разумов? Что... Фу! Сколько имен просится на бумагу! Словом, что все вы? Пенза, семинария, ректор, инспектор, Констехтер, Степан Васильевич! Какие знакомые имена, и сколько противоположных ощущений, благодарных и враждебных воспоминаний подымают они в душе! По-прежнему ли ректор лает на мир божий; по-прежнему ли К[онстантин] Ф[едорович] просит сочинений и трактует о Магомете? По-прежнему ли Ст[епан] Вас[ильевич] своим мягким, женственным, полным симпатии, хотя немножко гнусящим голоском поведает своим неблагодарным, да, неблагодарным, слушателям тайны откровения? Несравненный человек, который больше и жарче всех желал нам добра, меньше всех делал зла или, лучше сказать, вовсе его не делал и которого, однако ж, меньше всех ценили и понимали и, вероятно, ценят и понимают до сих пор! Тихая, безобидная душа! Возмутительно, безнравственно в высшей степени бросить грязью в такого человека. Привет ему от всей души!»
В другом письме П. П. Гвоздеву от 11 октября 1861 г. в Пензу будущий историк рассказал о студенческих волнениях в Московском университете и объяснил свою позицию отрицания требований студентов к императору.
«Мне тяжело говорить о той катастрофе, которую теперь переживает наш университет. Ты, может, уже знаешь что-нибудь и освободишь меня от обязанности подробно описывать тебе все дело, к тому же это и не совсем удобно в письме, посылаемом по казенной почте. Скажу тебе только вот что: по случаю закрытия Петербургского] университета за волнения на юрид[ическом] факультете у нас читали прокламацию, рьяную, раздражительную, в тоне "Aux armes, citoyens!" {"К оружию, граждане!" (фр.).}. Она прислана была из Пет[ербур]га. Читавшему отвечали шумными рукоплесканиями. Входит инспектор: в это время чтение еще продолжалось; инспектор подошел к читавшему (он был поляк и читал с высоты кафедры, подняв вверх правую руку), взял его за руку и просил сойти. Но оратор продолжал читать, не удостоивая инспектора вниманием. Наконец он кончил и сошел при шуме рукоплесканий. Инспектор стал говорить о нарушении правила (чтобы не было ничего похожего на сходки, тем более возмутительные); ему отвечали оглушительным свистом, так что он не мог сказать слова. Дело сделано; аудитория опустела; все ушли в сад; начали составлять адрес к государю, чтобы отменить обязательность в платеже 50 р[ублей] и других стеснительных правил. Адрес был в таком тоне: "желаем", "желаем". Посуди, кто же согласится удовлетворить такому бесцеремонному желанию, кто удовлетворит ему из наших величественных регистраторов (понимаешь!). Стали подписываться под адрес[ом]. Между тем явился протест от многих студентов, что этот шум и свист для них чуждое дело и они не разделяли и не хотят разделять его. Значит, беспорядок - дело немногих мальчиков. На третий день по решению совета унив[ерсите]та 1-й и 2-й курсы юрид[ического] фа[культета] были объявлены закрытыми на год. Вот как! Но дело разгоралось. Раз из саду целая толпа студентов двинулась к дверям унив[ерсите]та и с шумом и криками начала требовать инспектора, грозя иначе вломиться силою и отыскать его.
Сам можешь обсудить, какого это рода дело! Я отвернулся от него, как и многие, возмущенные его обстановкой. Явились партии в саду, явились демагоги, кричавшие о том, что их имена будут написаны золотыми буквами у потомства. Говорят, на совете С. М. Соловьев и Б. Чичерин сильно восставали против этих беспорядков и величали крикунов школьниками. Некоторые студенты так горячо увлеклись, что кричали: "Пусть закроют наш университет!" Как легко сказать это! А думал ли кто, что все эти крики не стоили одного слова лекции Буслаева или кого другого. Я приведу тебе слова речи Буслаева, которые остались у меня в памяти, речи, которой он объяснился с нами по поводу всех этих происшествий, и предоставляю тебе самому обсудить все это дело.
"М[илостивые] г[оспода]! Мне было бы тяжело продолжать мои лекции, не объяснившись с вами по поводу совершившихся событий, не сложив ту тяжесть, которая теперь лежит у меня на сердце. Слышатся возгласы о каких-то преобразованиях университета с его профессорами, которых обвиняют в том, что они замкнулись в своих науках и не хотят знать того, что делается вокруг них (это о студентах речь). Что сказать на это? Предваряю вас, г[оспода], что я решился высказаться откровенно. Всякое молчание ведет к недоразумению, а всякое недоразумение питает ложь. Итак, я откровенно объяснюсь с вами. Я сам вырос и физически, и нравственно в стенах этого университета, и, сколько припомню, при мне не было между студентами и профессорами другой теснейшей связи, кроме научной, и еще доселе не знаю, может ли существовать какая-нибудь другая связь. Теперь, г[оспода], эта связь разорвана. Слышатся возгласы: быть или не быть университету! В этих возгласах слышатся и другие: быть или не быть профессорам! Что это? Что значат эти хлопотливые заботы о житейских, практических делах (намек на хлопоты об отменении платы и т. п.)? Все эти крики о житейских вещах и преобразованиях, г[оспода], еще хуже самих свистков, которыми студенты награждают непризнанного оратора (инспектора). Они разрушают самовольно связь с наукой, отодвигают ее на второй план, разрушают прямые, самые дорогие отношения между представителями ее и слушателями. Быть или не быть профессорам! Это значит: быть или не быть университетскому образованию! Я никого не хочу ни обвинять, ни оправдывать, но позволяю себе видеть во всем этом не что иное, как глубокое оскорбление преподавателям, которые по мере сил своих посвятили себя на дело вашего образования, а в лице их и глубокое оскорбление мирной науке!" Он говорил горячо, изменялся в лице: то бледнел, то оживлялся как-то особенно. К сожалению, люди, о которых он говорил, т. е. ажитаторы волнения, не слышали его: они были в саду, на совещаниях. Обсуди это дело, и ты согласишься со мной, что это не более как вопрос дня - question du jour,- отличающийся сильным мальчишеством. Испортили сначала дело, а потом принялись за адрес. Вот почему я отвернулся от него.»
В письме И. В. Европейеву от 18 октября 1861 г. Василий Осипович более подробно рассказал о волнениях среди студентов, в которых он должен был закалить свой характер: «... Я полагаю, что Вы уже имеете некоторые сведения о наших делах. По всей вероятности, Вы слышали, что был закрыт Петербургский университет за беспорядки, произведенные студентами. По случаю этого закрытия и у нас произошли шумные движения - освистали инспектора и подобное. Но это было делом немногих. Большинство студентов объявило инспектору, что они против этих неприличных действий. Сами согласитесь, что не студентам свистать и буянить в аудитории; это и на улице неприятно и не совсем законно. Однако же так как эти действия произошли прежде всего в юридической аудитории, то совет университета решил, чтобы закрыть первые два курса юридического факультета на год. Теперь эти курсы опять открыты для тех, кто объявил себя против шумных действий. Это было в конце сентября, но дело здесь в том, что по милости всех этих событий мы были поставлены в самое неприятное, беспокойное положение. Было опасно писать письма, потому что носились слухи, будто на почте их вскрывают...
Из-за чего же, спросите Вы, произошли эти беспорядки?
Студенты хотели выручить товарищей, которые набушевали в аудитории, и решились хлопотать об отменении постановлений, стеснительных для студентов, особенно бедных, именно: об отменении поголовной обязанности платы за право слушания лекций; о позволении объясняться с начальством через депутатов, что по правилам не позволено. Все это было прекрасно. Предположено было подать министру или самому государю адрес обо всем этом. Но адрес сопровождался таким шумом, что он делался дерзким поступком, хотя в сущности он не должен быть таким. Напр[имер], однажды толпа студентов с шумом подступила из саду, где было сборище, к дверям университета и требовала инспектора, грозя в противном случае выломать двери, и на другой день в самом деле некоторые головы выломали решетку в коридоре, через которую проходят студенты, предъявляя поставленному здесь швейцару свои билеты. Ну, на что это похоже? Вследствие этого очень многие, в том числе и я, не хотели подписаться под адресом, во-первых, потому, что он производился уже незаконным образом, а кто хлопочет об изменении чего-либо, то для успеха должен еще подчиниться существующим постановлениям, не правда ли? - а во-вторых, и потому, что на этот адрес и не обратили бы внимания или еще и хуже сделали бы как с поступком не совсем почтительным. Вы понимаете, кто бы это сделал? Напр[имер], в адресе не говорилось: просим о том-то - нет, а прямо: желаем, требуем - и дело с концом. Наперед можно было видеть, что люди, к которым обращен был этот адрес, не привыкшие к такому тону бесцеремонному и еще недавно закрывшие университет Петербургский, не очень ласково ответят и московским студентам. Мало-помалу подписка под адресам] уменьшалась; все было стало утихать. Жаль было только, что два курса юридические закрыты. Но вдруг в начале октября в ночь схвачены были полицией некоторые студенты без всякого объяснения, за что и почему. Это взволновало опять студенческий люд. Стали требовать у попечителя объяснения и при этом с шумом ввалились в комнату, где он был. Попечитель отказался говорить с такой бесцеремонной толпой. Призван был обер-полицмейстер, но ему заметили студенты, что ему здесь делать нечего, и с шумным свистом проводили с университетского двора. На другой день то же, но кончилось трагедией. Студенты, получив отказ у попечителя, отправились толпой к дому генерал-губернатора, чтобы у него попросить объяснения, почему арестованы некоторые их товарищи. Отправились, разумеется, не все. Их сопровождала огромная толпа зрителей. Но здесь явилась полиция и проводила студентов до дома губернатора. При доме произошли беспорядки, и подан был жандармам знак хватать. Тут началось странное дело. Пешие и конные жандармы рассыпались по улице и всякого, кто имел какие-нибудь признаки студента (мундир, очки и подоб[ное]), бесцеремонно хватали за шиворот, стаскивали с дрожек, кто ехал, и тащили в часть. К Тверской нельзя было пройти. Некоторых студентов били палашами или чем попало. Сюда присоединились еще лавочники и прочая челядь, которой полиция успела объявить, что студенты хотят вместе с помещиками отнять у крестьян волю и что это все поляки бунтуют (какая нелепая несообразность!). Чернь также ловила студентов и с криками выдавала полиции. Многие посторонние были схвачены толпой по недоразумению, что они студенты. Иной студент шел, не зная ничего, по улице, и его беспардонно тащили в часть. Даже помощник инспектора просидел там несколько часов, потому что его приняли за студента. Поистине дело было плачевное! Хватали без всякого разбора и церемонности. Некоторые студенты вырывались и растрепанные, оборванные прибежали в университет поведать товарищам о случившемся. Некоторое время университет был в осадном положении, около него собралось множество народа, колясок, дрожек, будто на праздник, и в довершение декорации рыскали пред воротами жандармы, не пропуская никого ни в университет, ни из университета. Это многих, и в том числе меня, оставшихся в университете, спасло от жандармского палаша или копыта его лошади. Дело было слишком серьезное, чтобы не принять его к сердцу. Оказалось, что больше 300 человек сидели в части. Беспардонность полиции в обращении с студентами соединила всех студентов в той мысли, что полиции не должно пропустить это безнаказанно. Собрался совет профессоров, и решили вести дело судебным порядком, назначив со стороны университета депутата. Между тем перед частью до самой ночи стояла огромная толпа народу, и длинный ряд конных жандармов выстроен был в линейку на площади. Оставшиеся студенты сами хотели идти в часть и требовать, чтобы и их посадили вместе с товарищами, но их не взяли и некоторых схваченных выпустили и доселе продолжают выпускать. Лавочники и подобная челядь обнаружила себя против студентов, называя их буянами, говоря, что здесь действовали больше поляки, что они шли разбить окна у губернатора: ходили самые нелепые слухи. В этом говоре толпы была своя доля правды: студенты действительно побуянили неприлично, разумеется, немного, но дело в том, что хватали всех без разбора и хватали бесцеремонно, с чисто солдатскими приемами. Но если чернь заявила себя против студентов, то высшие сословия иначе отнеслись к ним. Некоторые, правда, из высшего сословия, говорят, обвиняли во всем студентов, но вообще все недовольны были полицией. Говорят, дворяне хотят протестовать против ее поступков. Упомянем об одном, пожалуй, и трогательном, но отчасти и забавном выражении сочувствия студентам: дамы, бывшие постоянными зрительницами движений университета, после дневных арестов пришли к части (говорю, некоторые, иные очень щегольски одетые) и принесли узникам конфект целые узлы, объявив при этом, что они не будут танцевать с жандармскими офицерами, оскорблявшими их любимцев-студентов... Как хотите смотрите на это; я не отказываюсь видеть в этом и хорошее, но только смешно что-то немножко; видно, никакая комедия не обходится без трагедии и никакая трагедия без комедии; последнее-то и случилось с нами. Впрочем, от большей части дам московских и нельзя требовать большего: будет с них и этого. Во всяком случае спасибо им! С какой стороны ни смотреть на эту бойню, она выходит очень нехорошим делом со стороны полиции. Теперь идет об этом дело, и еще не могу сказать вам, чем оно кончится. Между тем все взволнованы, до лекций ли здесь! Решили прекратить ходить на лекции до окончания дела. Закрытые курсы открыты для тех, кто объявил себя против нехороших сцен, произведенных студентами в начале всего этого дела. Заявить себя против этого всякий должен, говорю должен, потому что эти сцены не идут к студентам, делают их уличными буянами. В этом большинство нас сходится; но бойня, учиненная полицией, заставляет забыть это и сочувствовать биенным страдальцам. Открытие курсов пришлось не вовремя, и порешили не ходить на лекции, пока не кончится все дело и не освободят всех арестованных. Вот и посудите, как дела делаются на свете. Что за время переживаем мы! Посудите сами: в Петербурге прекращены лекции, несмотря на то что университет открыт (с изданием новых, еще более невыгодных правил для студентов); Киевский закрыт; говорят, то же и с Казанским университетом; Московский закрыли сами студенты (на неделю, не больше). Сколько остается после этого? Харьковский - и только, но еще не известно хорошо, что там делается. Как назвать это время? Безуниверситетским, междуцарствием полицейским. Что-то грустно, как хотите.
Впрочем, не беспокойтесь. Дело уладится; найдутся и там, наверху, люди, желающие добра университетам, и если не отменят правил, стеснительных для студентов, то и хуже ничего не будет: можно надеяться на это. Для успокоения нужно Вам сказать, что университет Московский не закроют никогда: это не Петербургский и никакой другой. Это говорил один из профессоров. Временное прекращение лекций самими студентами ничего не значит и не есть официальное закрытие со стороны начальства. Оно необходимо для скорейшего окончания дела. Будьте спокойны: нас защитят и все пойдет своим порядком. Самое дурное в нашем деле то, что его связывают с польскими волнениями, тогда как это не имеет ничего общего с ними. Это домашнее университетское дело, а не политическая демонстрация». [2]
Представляя первые московские сюжеты из жизни В.О.Ключевского краеведческому сообществу, молодежи, библиотечные работники открывают как новые неизвестные факты обыденной жизни Москвы, так и о общезначимых студенческих волнениях в контексте отношения к студентам московских обывателей от ненависти лавочников до симпатии щегольских дам.
Литература:
1. https://cbscao.ru/about-cbscao/biblioteki/item/tsentralnaya-biblioteka-1...
2. http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_1870_pisma.shtml
|
Поделиться
|
|